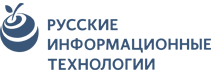http://www.knia.ru/comments/83.html
Не люблю работать против мошенников
Дмитрий Жданухин
Генеральный директор «Центра развития коллекторства», кандидат юридических наук
В конце августа в Москве состоялся круглый стол «Бизнес и банки: какова причина конфликта?», организованный «Деловой Россией». Одной из основных тем, обсуждавшихся на мероприятии, стала проблема взыскания кредиторской задолженности с недобросовестных заемщиков. В ряду последних на круглом столе вспоминали и «Северо-Западную Лесопромышленную Компанию», банкротство которой было запущено ее владельцами супругами Битковыми весной прошлого года. Один из участников мероприятия генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин согласился ответить на вопросы КНИА.
КНИА:
Чем занимается ваша компания?
Дмитрий Жданухин:
Некоторое время назад для вытеснения сантехнического понимания термина «коллектор», я предложил такое определение: коллектор – это коллекционер решений чужих долговых проблем. К сожалению, в период кризиса к коллекции решений добавляется большое собрание способов уклонения от возврата кредитов и взыскания, которые используют должники. Особенно изощренно сопротивляются взысканию руководители и собственники организаций. Изощренность эта зачастую переходит в мошенничество.
Но если честно, я не люблю работать против мошенников. Мошенничество – это ведь такой образ жизни, при котором деньги жгут руки, и поэтому очень быстро тратятся. Если даже находишь этого мошенника и можешь его прижать, то взять с него как правило нечего: у него половина денег уже проедена, а на другую половину он планирует прожить остаток жизни.
КНИА:
На состоявшемся в конце августа круглом столе «Деловой России» по проблемам банкротства вы в качестве примеров недобросовестных должников приводили компании «Русский текстиль» и СЗЛК. Можете кратко сформулировать типичные методы, к которым прибегают недобросовестные заемщики, чтобы не возвращать кредиты?
Дмитрий Жданухин:
Есть основные и дополнительные методы противодействия взысканию задолженности. Основные способы обеспечивают должнику непосредственную возможность не отдавать имущество и денежные средства кредитору, а дополнительные направлены на затягивание времени и облегчение выполнения основных. Основные – это вывод активов из компании-должника в иные, контролируемые теми же фактическими руководителями, организации, инициация и контроль хода банкротства с помощью создания «искусственного» кредитора, а также фактическое сокрытие активов. К дополнительным способам относятся искусственное затягивание судебных процессов; уклонение от контактов с кредиторами и затруднение передачи информации; разворачивание PR-кампании против кредитора; коррупционное противодействие взысканию (своего рода, «шантаж» кредиторов с помощью «связей» в правоохранительных и других государственных органах).
КНИА:
Как выглядит применение этих методов на примере собственников СЗЛК?
Дмитрий Жданухин:
Судя по сообщениям СМИ, в случае с СЗЛК, которой принадлежали Неманский ЦБК и Каменногорская фабрика офсетных бумаг, использовались и основные типичные способы, и дополнительные. Из основных – это вывод активов и контролируемое банкротство, из дополнительных – затягивание времени и разворачивание PR-кампании против кредиторов.
Фактических руководителей этой организации – семью Битковых – публично обвиняют в том, что, кроме создания «финансовой пирамиды», т.е. постоянного привлечения кредитных средств без адекватных вложений в действующие предприятия, они успешно пытаются контролировать ход банкротства наиболее крупных организаций, входивших в холдинг.
В отличие от простого вывода активов, «контролируемое банкротство» обычно используют в тех случаях, когда необходимо скрыть от взыскания недвижимость или целые имущественные комплексы, и при этом ожидается активная юридическая работа по взысканию со стороны кредиторов. По сути, должник подает заявление о собственном банкротстве для того, чтоб перехватить у кредиторов инициативу, а значит, чаще всего, и контроль за процедурой банкротства. Важнейшим моментом в применении этого способа уклонения от взыскания является создание «искусственного» кредитора, т.е. контролируемой теми же лицами, что и должник организации, у которой на основании фиктивных документов появляются права требования на крупные суммы к организации-должнику.
КНИА:
Каким образом собственникам СЗЛК удается контролировать процесс банкротства?
Дмитрий Жданухин:
Внезапно для кредиторов, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, Связь-банк и др., появилась оффшорная компания Vilda Consult Ltd., которая документально подтвердила то, что является крупнейшим кредитором СЗЛК. При этом долг появился весьма странным образом: Vilda Consult Ltd. продала по, вероятно, сильно завышенной цене компании-должнику ООО «Светоч» – небольшую питерскую фабрику по производству тетрадей. Так у оффшорной компаний появились права требования на 3,7 млрд рублей и возможность в качестве крупнейшего кредитора диктовать свои условия в ходе процедуры банкротства.
КНИА:
Что можно сказать про вывод активов СЗЛК?
Дмитрий Жданухин:
Точно утверждать это, конечно, сложно, но вероятность весьма высока. Цитируя «Операцию Ы», «здесь все уже украдено до нас». Анализ сообщений СМИ показывает, что это верное предположение. Ведь какова история появления «Вилды»? Vilda стала кредитором в результате того, что СЗЛК купило предприятие, которое и так ей принадлежало [Прим. ред: формально НЦБК купил ООО «Светоч» у менеджмента всего за 2 недели до инициирования процедуры банкротства]. Должны «Вилде» много, и это в СЗЛК никем не оспаривается. Когда хотят вывести активы, всегда создают искусственного кредитора.
Плюс ко всему, достаточно посмотреть на то, как они профессионально и грамотно отбиваются. Придумали, например, такой красивый PR-ход: повесили на своем сайте баннер «что сделано на деньги банка» (банки ведь их обвиняют, что ничего). Но при этом не уточняют, какой именно станок, за сколько и у кого куплен – просто показана фотка какой-то машины.
И сейчас, если НЦБК все же встанет, у них тоже уже все готово в свое оправдание: завод не смог работать из-за того, что Сбер забрал бумагоделательную машину.
КНИА:
А в действительности из-за чего?
Дмитрий Жданухин:
А в действительности, по моему мнению, – очень похоже на то, что из-за мошенничества с кредитными средствами, и из-за желания продолжить его, списав все на кризис.
КНИА:
Какие есть подтверждения в пользу версии того, что банкротство СЗЛК – это мошенничество?
Дмитрий Жданухин:
Решения суда нет, так что однозначно сказать нельзя. Но признаки, с моей субъективной точки зрения, здесь таковы. Во-первых, несоразмерность кредита и затрат на имущество организации. Покупали не то, что заявляли. Условно говоря, взяли 100 млн, купили станок за 5 млн, остальные деньги делись неизвестно куда. То есть, можно вполне предположить, что полученные средства шли не на нужды организации, а на нужды ее руководителей.
Банки не перехватили инициативу банкротства, поэтому, сколько и на что потрачено – мы сейчас можем рассуждать только в режиме экспертной оценки. И с этим связано во-вторых: в оправдание своих действий СЗЛК нигде не обнародует информацию о реальных затратах. Про баннер помните? Лучше бы они вместо фотографии машины договор опубликовали. Но ведь понятно: как только цифра будет обнародована, она станет известна конечному производителю. Даже если была цепочка подставных компаний, производитель машины все равно может оценить, насколько правдива информация. И в-третьих, схемы, которыми СЗЛК оправдывала расходы – все они ссылаются на выручку, которую можно раздуть искусственно, а не на капитализацию компании.
КНИА:
Какие дополнительные методы уклонения от взыскания применялись собственниками СЗЛК?
Дмитрий Жданухин:
К примеру, по моему мнению, может присутствовать такой способ: при серьезном PR-сопровождении распространяется адресованное банкам предложение по реструктуризации, по которому создается единая компания, а 100% ее акций передается кредиторам. Представьте себе компанию, где для управления должны между собой договариваться Сбербанк, Газпромбанк и другие кредитные организации, а также необходимо учитывать мнение такого «сомнительного» кредитора как Vilda Consult Ltd.
То есть, перед нами типичный случай псевдо-реструктуризации. В отличие от реальной реструктуризации, которая ведет к разрешению долговой проблемы, псевдо-реструктуризация – это в лучшем случае отсрочка неизбежного взыскания долга. Если же мы имеем дело с недобросовестными должниками, которые не собираются ничего никому отдавать, то ход с псевдо-реструктуризацией – это чаще всего попытка получить время для подготовки к уклонению от взыскания долга или PR-ход, направленный на сокрытие их противодействия взысканию.
КНИА:
Какими могут быть дальнейшие действия СЗЛК?
Дмитрий Жданухин:
Я думаю, их замысел такой: Vilda как крупный кредитор получит половину активов компании. И когда банки поймут, что могут получить на всех половину абсолютно не нужного им завода, Vilda им предложит деньги за эти ползавода. Выкупит, и будет себе спокойно работать дальше – получать новые кредиты, разрабатывать новые проекты.
Вообще, это распространенное сейчас суждение – мол, кризис все спишет, – а потом мы снова придем в банк, снова найдем людей, нам снова дадут деньги, и все будет как раньше.
КНИА:
И кредиторы ничего не могут поделать с такими должниками?
Дмитрий Жданухин:
Ошибка банков в том, что они пытаются применять лишь законодательство о банкротстве. К примеру, исключить «Вилду» из реестра кредиторов. Но проблема в том, что в рамках гражданского процесса все это доказать сложно, там проверяются только документы, а по ним все в порядке – все подписи и печати на месте. А вот в рамках уголовного процесса уже можно расследовать, что может скрываться за этими документами – почему была заключена сделка. Тогда можно было бы привлечь и международное полицейское коллекторское агентство – есть такое – оно могло бы, к примеру отследить, кто «ходит» в офис «Вилды».
КНИА:
Какие нормы уголовного права, по вашему мнению, могут быть нарушены собственниками СЗЛК?
Дмитрий Жданухин:
Самое простое – попробовать привлечь их по ст. 195 Уголовного Кодекса – неправомерные действия при банкротстве, или ст. 165 – причинение имущественного ущерба путем обмана, злоупотребления доверием. Ведь банки не имеют возможности получить свои средства.
КНИА:
Какие еще есть рычаги у кредиторов?
Дмитрий Жданухин:
Защите интересов кредиторов может способствовать повышение эффективности применения ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Дело в том, что данный состав позволяет квалифицировать уклонение (прежде всего, вывод активов) как юридическое или фактическое сокрытие имущества или денежных средств, которое обеспечивает невозможность принудительного исполнения судебного решения. И в случае наличия задолженности в сумме более 250 000 рублей привлекать виновных к уголовной ответственности. Также важным моментом является совершенствование практики применения законодательства о банкротстве и особенно новых норм, которые касаются ответственности руководителей и собственников организаций-банкротов, а также оспаривания подозрительных сделок.
4 сентября 2009г.
- Текущее время: 19 янв 2026, 17:25
Не люблю работать против мошенников
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1